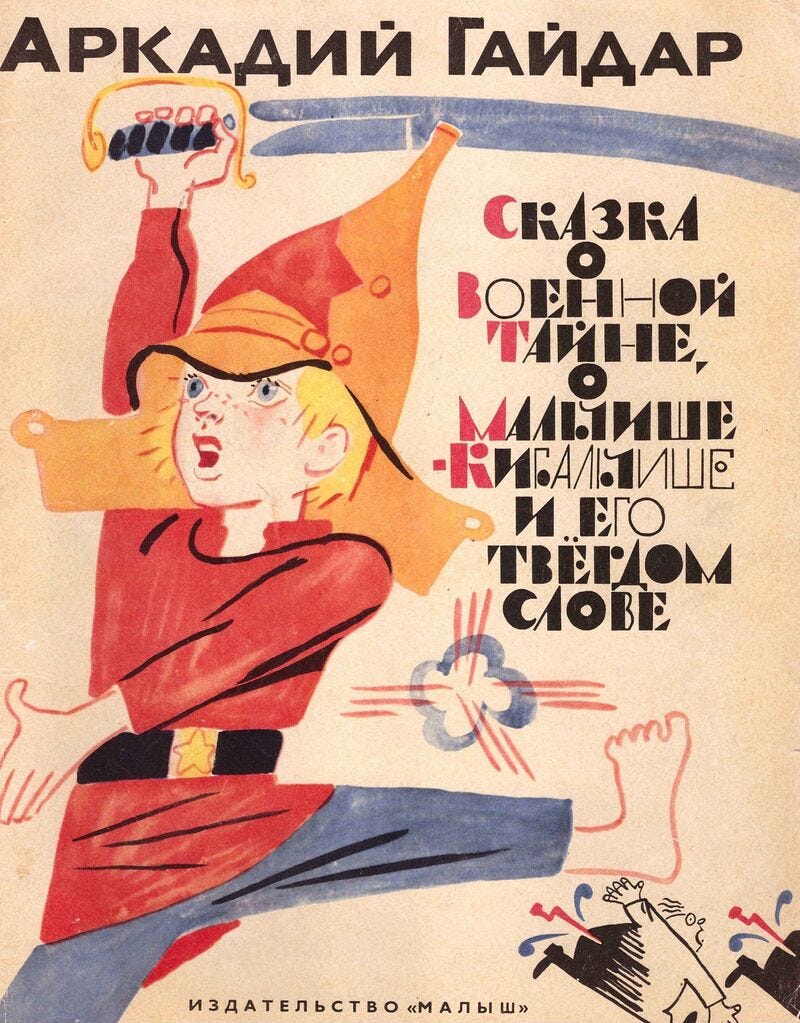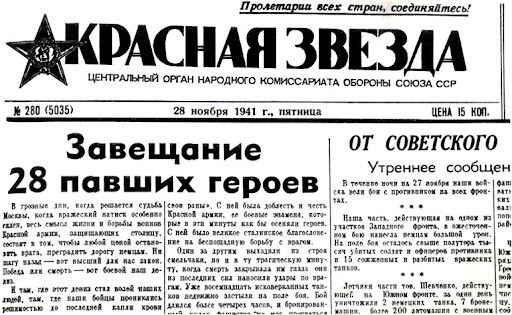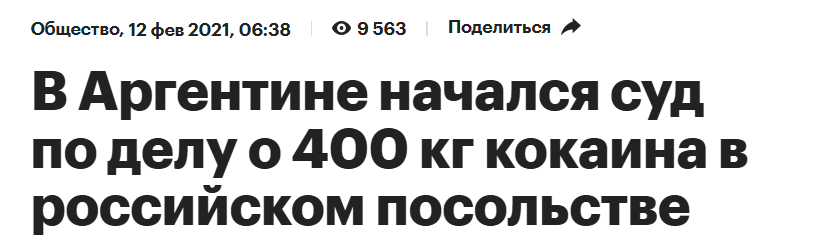Разговоры о важном: Профессия - жизнь спасать
О «высокой» цели и ценности жизни
Ценность жизни и…
Ближайший «Разговор о важном» посвящен очень важной и очень хорошей теме: о ценности человеческой жизни и о тех, кто эти жизни спасает. В сценарии, как всегда, сказано много хорошего и правильного: учителю предлагается начать урок со слов о том, что «самое ценное в мире — это человеческая жизнь».
Затем говорится о том, что стремление защитить себя и своих близких — нормальная человеческая реакция. Учитель должен рассказать, как люди с древности создавали добровольные объединения для защиты своих семей, деревень, городов, а затем им на смену пришли профессионалы.
Так создается логическая цепочка, которая ведет к разговору о героической деятельности МЧС, о том, как много всего надо уметь для того, чтобы спасать людей, и сколько поразительных спасательных операций провели сотрудники министерства.
Все очень благородно, но, как водится, есть несколько «но».
… культ смерти
На вопрос учителя о том, почему «охрана и спасение человеческой жизни — важнейший приоритет для государства?» — вообще-то надо отвечать, что человеческая жизнь НЕ ЯВЛЯЕТСЯ приоритетом государства как минимум последние сто лет.
Русско-японская война, Первая мировая, гражданская, Вторая мировая, афганская, чеченская войны унесли миллионы жизней. Говорить о том, как государство бережет человеческие жизни в тот момент, когда это самое государство развязало дикую, бесчеловечную, агрессивную войну, уже поглотившую тысячи военных и гражданских, взрослых, детей, стариков, — ну, простите за очередное повторение, — но это безнравственно.
Мы можем сказать, что это не российская специфика, что страшные войны вели — и развязывали — самые разные страны.
Но дело не только в войнах. Ужас советской/российской ситуации еще и в том, что миллионы жертв, отданных на алтарь государства, воспринимаются не как трагедия, а как гордость.
Герои Гражданской войны в советское время — это были прежде всего те, кто погибли, отдав свою жизнь за революцию: Щорс, Чапаев, Лазо и еще многие другие. Неважно, что они делали, и насколько жестокими были, — главное, героическая смерть, после которой тебя будут вечно восхвалять.
В омерзительной (я вполне ответственно употребляю это слово) сказке о Мальчише-Кибальчише, которую рассказывают герои Гайдара, речь идет о том, как в тех местах, где жил этот героический мальчик… всех поубивали.
Начинается рассказ с того, что:
«В ту пору далеко́ прогнала Красная Армия белые войска проклятых буржуинов, и тихо стало на тех широких полях, на зелёных лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди густых садов да вишнёвых кустов стоял домишко, в котором жил Мальчиш по прозванию Кибальчиш, да отец Мальчиша, да старший брат Мальчиша, а матери у них не было».
Естественно, мы знаем миллион сказок, в которых у героя или героини мать умерла, но это обычно нужно для того, чтобы, например, падчерицу угнетала злая мачеха или чтобы родимая матушка в волшебном виде приходила на помощь. А здесь мог бы Гайдар обойтись и без этой детали, но нет — Мальчиш-Кибальчиш живет в мужском суровом мире: там есть место только тем, кто идет на войну, а тем, кто мог бы проявить слабость или, упаси боже, милосердие, — места нет.
И дальше, когда на страну Мальчиша-Кибальчиша нападают проклятые буржуины, то сначала на войну уходят отцы — и погибают, потом старшие братья — и тоже погибают. А потом, когда всадник снова зовет всех на бой, то выходит один только старик, который уже не в силах воевать.
«Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал».
Большой вопрос — отчего заплакал старый дед: от того, что он такой слабый, или от того, что он уже больше не может воевать — в мире, где война, убийство — это самое главное дело.
И тогда в бой идут уже «мальчиши» — и они тоже сражаются, и убивают, и погибают. А Мальчиш-Кибальчиш попадает в плен, где его, конечно же, как и должно всегда быть в плену, — жестоко пытают:
“Сделайте же, буржуины, этому скрытному Мальчишу-Кибальчишу самую страшную Муку, какая только есть на свете, и выпытайте от него Военную Тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной Тайны”.
И, конечно же, он не выдает тайны и погибает несломленным. И очень характерно: когда Натка рассказывает октябрятам эту сказку, то, услышав о гибели Мальчиша, никто из них не плачет.
«Лицо октябренка Карасикова сделалось вдруг печальным, растерянным, и он уже не махал рукой. Синеглазая девчурка нахмурилась, а веснушчатое лицо Иоськи стало злым, как будто его только что обманули или обидели».
Они не горюют по-настоящему. Зачем же горевать о том, кто так прекрасно погиб? Главное — надо за него отомстить. И месть не заставляет себя ждать.
«Но… видели ли вы, ребята, бурю? — громко спросила Натка, оглядывая приумолкших ребят. — Вот так же, как громы, загремели и боевые орудия. Так же, как молнии, засверкали огненные взрывы. Так же, как ветры, ворвались конные отряды, и так же, как тучи, пронеслись красные знамена. Это так наступала Красная Армия».
Пропагандистские мифы
«Военная тайна» Гайдара издавалась миллионами экземпляров, она была в любой детской библиотеке, и ее читали ученикам младшей школы. А сказку про Мальчиша-Кибальчиша еще и издавали отдельно, и мультфильм по ней сделали.
Все знали, как прекрасно умереть под пытками и не выдать военную тайну.
И ведь эта модель сохранялась, поддерживалась, усиливалась в течение многих десятилетий.
Несчастный Павлик Морозов действительно, похоже, свидетельствовал на суде против отца, но не по идейным соображениям, а потому что его подбивала к этому мать, хотевшая отомстить ушедшему от нее мужу. И убийство его было «раскрыто» обычными способами, которыми милиция всегда раскрывала и продолжает раскрывать дела, — его просто «повесили» на родственников мальчика. А потом, стараниями журналистов и писателей, из этой печальной истории сделали пример героизма и принципиальности — и опять же прекрасной смерти.
Почитайте очень увлекательную книгу Юрия Дружникова «Доносчик N1. Вознесение Павлика Морозова» — там подробно изучен вопрос о том, как государство формировало в молодом поколении полное, абсолютное и даже романтизированное презрение к жизни.
А реальная жизнь тоже показывала, что ценить ее особенно не стоит. Я уж не говорю о том, какой она была бедной и голодной, но ведь люди-то умирали миллионами. Коллективизация — и вымирают целые деревни и районы, и высылают сотни тысяч работящих крестьян, назвав их кулаками. Большой террор — и пошли миллионы в ГУЛАГ, и разрешили пытки на следствии, и дети публично отрекались от родителей, а жены — от мужей. И все — от студентов до академиков, подписывали письма с требованием смертной казни для «троцкистско-зиновьевских предателей».
А потом наступила Вторая мировая, и газеты наполнились историями о великих героях, которые знали только то, как им умирать: направив свой самолет на колонну врагов, как Николай Гастелло, или закрыв своим телом амбразуру вражеского пулемета, как Александр Матросов. Или попытавшись холодной зимой поджигать крестьянские дома, чтобы немцам негде было жить — и, конечно, пойманной самими крестьянами — как это было с Зоей Космодемьянской. И как только начинаешь разбираться в этих историях, то видишь, что они были или полностью придуманы, как это произошло с 28 панфиловцами, или очень-очень сильно мифологизированы — изменены так, чтобы выделить главную мысль: хорошо умереть «за родину, за Сталина».
После войны эта же мысль достигнет апогея в романе Фадеева «Молодая гвардия», где описание пыток, которым подвергают молодогвардейцев — и прежде всего девушек — носит какой-то жуткий эротический, садистский характер. Недавно, кстати, «Молодую гвардию» вернули в программу по литературе.
Сценарий повторяется
Этот печальный рассказ можно продолжать еще очень долго — потому что по сути дела такой подход никогда не исчезал. И всегда о войнах рассказывали не как о трагедиях, а как о торжестве самоубийственного героизма. С Афганистаном и Чечней так развернуться, как с Второй мировой, конечно, не получалось, но суть оставалась той же. Государству зачем-то понадобилось отправлять мальчиков в Афган, чтобы они там творили ужасные дела и сами погибали в ужасных обстоятельствах. Но это ничего — ведь всё ради высокой цели.
Так же, как сегодня ради «высокой» цели — которую никто даже четко сформулировать не может, — надо убивать украинцев и погибать самим. Когда детей в школах сажают за «парту героя», то им фактически говорят: «Вот, учился в нашей школе мальчик, который пошел убивать и погиб сам. И если ты постараешься, то, может быть, тоже заслужишь право убивать и быть убитым “за родину, за Путина”».
И ничего не стоит жизнь в нашей стране, и никто ее не ценит — ни государство, ни больничный персонал, ни акушерки в роддомах, ни учителя, ни полицейские — никто.
И МЧС, похоже, тоже создано совсем не для того, чтобы защищать людей в чрезвычайных ситуациях, а для каких-то других, куда менее возвышенных целей. Мы не знаем, правда ли, что при Шойгу кокаин в Россию возили самолетами МЧС, но вот то, что по дипломатическим каналам кокаин из Аргентины действительно возили — и еще хранили его в школе при посольстве — это уже не вызывает сомнений.
Давайте я сразу скажу — я знаю много примеров, когда сотрудники МЧС действительно помогали людям, действительно спасали их, действительно замечательно действовали в чрезвычайных ситуациях — и спасибо им за это. Спасатели помогают застрявшим в горах туристах и борются с последствиями наводнений, ликвидируют снежные завалы и тушат лесные пожары.
Но к сожалению в теле, где разрастается раковая опухоль, метастазы прорастают во всех его частях. И в государстве, где коррупция — это норма, а суть идеологии — не спасение людей, не ценность человеческой жизни, а служение государству и вождю, — сохранить сияющие белые доспехи, увы, невозможно. Коррупционных скандалов, связанных с МЧС, увы, предостаточно — только за последнее время были возбуждены уголовные дела в Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Свердловской области.
При этом сотрудников МЧС призывают на войну — а почему нет, они же так хорошо подготовлены. А вот зато из бюджета МЧС, как выяснило издание «Верстка» забирают деньги — для чего бы вы думали? Для производства дронов! Наглядная иллюстрация к вопросу о том, что котируется выше — спасение людей или война.
И, надо сказать, что в сценарии «Разговора» это тоже ощущается. Вот, учитель рассказывает детям о том, каким должен быть спасатель — смелым, выносливыми, наблюдательным и так далее. И за этим следует «наводящий» вопрос —
«Может ли комплекс ГТО стать первой ступенью к этой профессии? Как сдача нормативов помогает развить навыки, необходимые для спасателя?».
Вопрос, конечно, резонный, и спасатели должны сдавать спортивные нормативы. Просто хочу напомнить, что ГТО означает «Готов к труду и обороне» — опять война, пусть даже незаметно, проскальзывает в классную комнату. Готовимся, готовимся.
Волонтерство между реальностью и пропагандой
В заключение учитель еще рассказывает детям о волонтерском движении. «Многие жители нашей страны принимают участие в спасательных операциях, не имея специального образования. Например, в поисковых операциях». Все верно, все правильно. Но опять есть «но»: волонтерское движение бурно расцветало в 2010-е годы — и началось с того, что добровольцы ехали в 2010 году тушить лесные пожары, а в 2012 — помогать пострадавшему от наводнения Крымску.
А потом государство постепенно «прибрало волонтеров к рукам». Волонтерское движение было поставлено под контроль государства, что уже во многом лишило его смысла, была создана куча фейковых организаций, которые занимаются бессмысленными делами, которые называются волонтерскими. Ну а сегодня, естественно, есть куча «волонтерских» организаций, помогающим… ну вы уже угадали — войне, конечно. Где же еще развернуться волонтерам?
В сценарии приводится пример того, что может сделать каждый, даже школьник — развешивать листовки с информацией о пропавшем человеке. Ну да, это можно — если, конечно, случайно не подумают, что это какая-то другая листовка.
Настоящее волонтерское движение опирается на хорошо подготовленные волонтерские организации, которые работают с людьми, готовят их к этой самой волонтерской деятельности, а затем дают возможность поработать — в больницах, детских домах, хосписах и во многих других местах. Это очень сложная работа, требующая большой профессиональной, физической и психологической устойчивости. А если считать волонтерством раздачу подарков в детских домах под Новый год — то тогда, конечно, это легко.
В общем, сегодняшний сценарий «Разговоров о важном» не такой ужасный, как обычно. В нем сказаны добрые вещи о ценности человеческой жизни и о необходимости защищать ее. К сожалению, он имеет очень слабое отношение к российской реальности, которую, увы, не получится поправить с помощью сладких разговоров.
Я часто думаю о том, можно ли в принципе изменить отношение к человеческой жизни в России? Многие думают, что нет — так уже сложилось, и так будет всегда. А я убеждена, что сделать это очень сложно, но можно.
Вообще-то, человеческая жизнь обладала малой ценностью в течение многих тысячелетий по всей Земле, и только в последние века начались принципиальные перемены, охватившие пока что лишь часть мира. Ну что же — если такие перемены возможны, значит, можно попытаться по крайней мере начать двигаться в нужном направлении.
А что для этого сделать?
Для того, чтобы изменились ценности, с одной стороны, нужно, чтобы изменилась жизнь. На это можно возразить, что для изменения жизни нужно изменение ценностей. Это верно, но, наверное, перемены должны коснуться всего. Для начала, должна быть закончена война. Должны быть реформированы армия, полиция, система ФСИН, образование, здравоохранение и еще многие составляющие нашей жизни. Мне вообще кажется, что все изменения, которые, я верю, когда-то начнутся в России, должны учитывать прежде всего как раз то, насколько они способствуют утверждению ценности человеческой жизни. Если этого не будет, то ничего не получится.
Беспочвенные мечтания? Возможно, но не беспочвенные. Если власть будет поддерживать тех, кто действительно заботится о человеческой жизни, если в школах не будут рассказывать о гордых смертях, а будут привлекать внимание детей к тем, кто и правда спасает людей (к врачам, психологам, общественным деятелям, — и к сотрудникам МЧС в том числе), и если мы сами, не ожидая помощи сверху сможем и в культуре, и в образовании, и в обычной жизни забыть о «мальчишах-кибальчишах», то, может быть, что-то хоть чуть-чуть сдвинется с мертвой точки.
Как провести урок?
А «Разговор о важном»? Вижу два варианта: поговорить о тех, кто действительно спасает жизни — о тех общественных организациях, которые делают это в вашем городе, о хороших врачах, о благотворительности. Или посмотреть, кому в ваших местах спасатели действительно помогли. Только не надо восторженных речей о тех, кто «отдал жизнь», спасая других. Если спасатель погиб, спасая людей от пожаров или наводнений, то это повод не для восторга и подражания, а для печали и для размышления о том, как сделать так, чтобы такое больше не повторилось.
Видео-архив «Разговоров о важном» можно найти на моём youtube-канале. С этого года новые выпуски в текстовом формате выходят на сайте.
Подписывайтесь на мои соцсети:
Бусти — Патреон — Телеграм — Инстаграм — ТикТок — YouTube