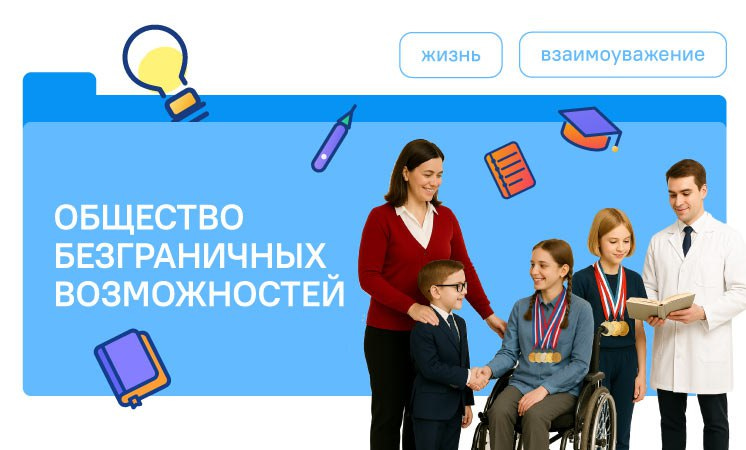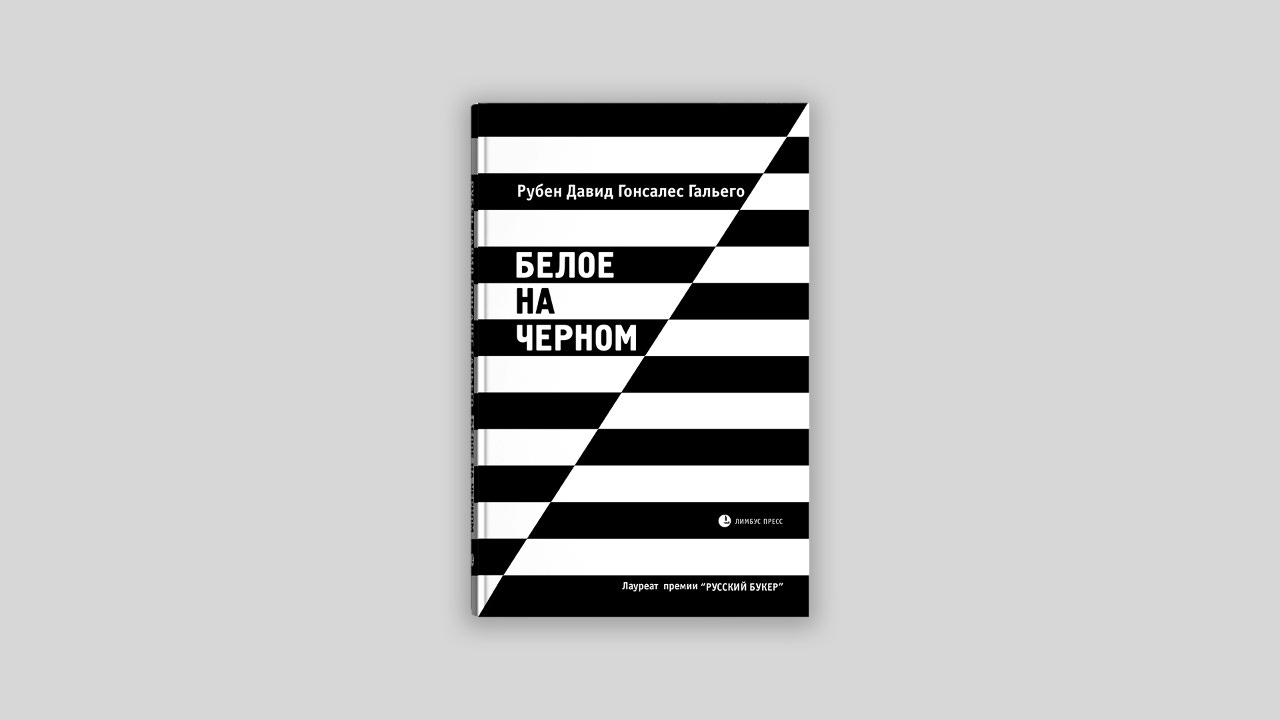Разговоры о важном: Общество безграничных возможностей
Как пафос сталкивается с реальностью
Если вы случайно не в курсе, то хочу сообщить: россияне живут в “обществе безграничных возможностей”. Так называется ближайший “Разговор о важном”, который завтра пройдет в школах.
Нет слов - нет проблем
На обложке сценария замечательная картинка: двое взрослых — предполагаю, что учителя. Молодая симпатичная женщина и мужчина в белом халате — наверное, преподаватель химии, воспитывающий будущих лауреатов Нобелевской премии. Между ними — дети. Две девочки со спортивными медалями на груди, причем одна из них — в инвалидном кресле. Рядом — мальчик помладше, в строгом костюмчике и очках.
Посыл вполне понятен: дружелюбная обстановка, забота старших — всё это дает возможность развиваться абсолютно всем. Те, кто выберут науку, смогут пойти очень далеко. Спорт доступен для всех, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. И даже маленькому очкарику в этом мире хорошо и весело. Никто никого не обижает. Такого понятия, как буллинг, не существует. Инвалиды весело едут на стадионы. Всем хорошо.
А вот антрополог Александра Архипова пишет в своем телеграм-канале:
“К 1 сентября запретили не только книги и лекции иноагентов-просветителей, но и некоторые слова в отдельно взятых школах.
Я получила сообщение от читателя из Вологодской области, работающего в школе:
“...Перед началом учебного года на традиционном педсовете директор объявила, что теперь учитель на уроке должен воздержаться от употребления трех слов: толерантность, гендер и буллинг. Видно было, что это инициатива сверху - директор выглядела сконфуженной”.
Пока что, очевидно, это отдельно взятая инициатива вологодцев. Но думаю, что слова эти настолько не вписываются в нынешнюю российскую реальность, что звучать будут всё реже и реже. И проблемы, связанные с этими понятиями, тоже будут обсуждаться всё реже. Только это, увы, не значит, что они исчезнут.
Небезопасная школа
Кстати, дело не только в буллинге или в проблемах с родителями и ровесниками. Подросток теперь может угодить в тюрьму с не меньшей вероятностью, чем взрослый. Вы знаете, что “после начала войны в Украине в 2022 году против детей в России начали массово возбуждать дела по статьям о диверсии или теракте (обычно за поджоги), а также за комментарии в интернете (оправдание терроризма и другие статьи)”?
Я уж не говорю про Машу Москалёву, на которую за антивоенный рисунок донесла её же учительница рисования. После этого девочку забрали у отца, а отцу пришлось отсидеть почти два года…
Маша тогда училась в шестом классе. Интересно, похожа ли её учительница рисования на ту заботливую и симпатичную женщину, изображённую на обложке нового “Разговора о важном”? Как везёт детям, у которых в школе действительно есть уважительные и внимательные учителя. И как больно читать о тех, кто доносит на своих учеников. Впрочем, наверное, надо сказать иначе: больно читать о любом доносе.
Но школа, вообще-то, должна быть безопасным местом. Дети и учителя проводят там большую часть дня, они должны чувствовать себя комфортно. А если к обычным школьным проблемам — скучным урокам, орущим учителям и буллящим одноклассникам — прибавляется ещё и страх откровенного разговора и ожидание доноса, то во что превращается школа? В “место безграничных возможностей”?
Пока что по уровню подростковых суицидов Россия опережает все страны Европы…
Что-то не очень похоже на страну безграничных возможностей. Ясно, что трагедии случаются в любых странах, но, наверное, речь идёт о тенденции, если с 2018 по 2021 год количество суицидальных попыток выросло на 13% — и это сведения не каких-нибудь “иноагентов-русофобов”, а небезызвестной Марии Львовой-Беловой, так называемого детского омбудсмена.
С возможностью “пойти в науку” тоже проблемочки: как выживать на зарплату научного сотрудника? Как не попасть под обвинение в измене, если ты пообщался с иностранным коллегой или прочитал открытые публикации в зарубежных журналах?
Вон скольких уже посадили ещё до того, как режим начал по-настоящему закручивать гайки.
Жить вопреки
Но главный упор авторы “Разговора о важном” делают на другую, действительно важную тему — о людях с ограниченными возможностями. В сценарии приводятся примеры паралимпийцев, людей, многого добившихся, несмотря на инвалидность. И это, конечно, хорошо.
Вот только давайте не будем говорить, что для всех них открыты “безграничные возможности”.
Давайте вспомним о тысячах инвалидов, которые не то что не могут стать паралимпийцами — они не могут даже выйти на улицу, потому что в их доме нет лифта, а соседи не разрешают установить пандус. Просто не разрешают — и всё. “Мол, место займёт.” Или потому, что у них такая коляска, на которой невозможно по-настоящему передвигаться.
Вспомним и о детях с инвалидностью, которых матери оставляют в роддоме — потому что их уговаривают это сделать врачи, и потому что они боятся общественного осуждения. А общество стигматизирует не только таких детей, но и их матерей, которые почему-то оказываются “виноватыми”. Или потому, что боятся лишиться мужа — ведь в большинстве семей, где рождается больной ребенок, папа очень быстро “куда-то девается”, и мама остаётся одна со всеми проблемами.
Есть матери, которые мечтают, чтобы их дети умерли раньше них самих — потому что в противном случае они попадут в ад интерната. Есть просто дети из неблагополучных семей — “запущенные”, — которым лихо ставят диагноз “умственная отсталость” и отправляют в коррекционную школу. А есть ещё особая тема и особый ад — психоневрологические интернаты, куда таких детей запихивают сразу после 18 лет. И там они очень быстро умирают.
И если вы думаете, что то, что описал в своей потрясающей книге Рубен Гальего, уже ушло в прошлое, то вы сильно ошибаетесь.
Есть множество историй невероятно мужественных людей, которые не позволили болезни победить их, смогли построить жизнь, найти своё дело. Ими можно только восхищаться. Но рядом с ними — во много раз больше историй о тех, кто не смог справиться и оказался обречён на мучительное прозябание.
Помню, как каждый раз, оказываясь с учениками за границей, я слышала вопрос: “А почему тут так много инвалидов?” И это удивление понятно — часто ли вы видите человека в инвалидной коляске на улицах российских городов?
Велик ли процент людей с ограниченными возможностями, которые могут жить самостоятельно? Во многих ли городах созданы условия для обучения таких детей? Для какого количества из них организовано сопровождаемое проживание? Иногда появляются публикации о том, что какая-то волонтёрская организация создала квартиру, где с помощью соцработников живёт несколько человек, нуждающихся в помощи…
Нашли “применение”
А знаете, где теперь находят себе “применение” все эти заброшенные инвалиды? Правильно — на войне.
“Выпускники коррекционных школ и интернатов, люди со второй группой инвалидности, которым ещё недавно была закрыта дорога в армию по медицинским показаниям, теперь заключают контракты и отправляются на фронт.”
Вообще-то, это очень страшно. Страшно при мысли о том, что эти люди, никому не нужные, теперь понадобились как пушечное мясо. И страшно при мысли о том, что с ними будет на фронте — и что они там могут сотворить.
А ещё — какими эти люди, уже пережившие множество унижений и травм, вернутся с войны (если вернутся). И, кстати, ещё одна ужасная мысль: чем дольше идёт война, тем быстрее растёт количество инвалидов — физических и ментальных — по всей стране. Покалеченные телесно и духовно люди возвращаются домой, туда, где и без того нездоровая атмосфера, и приносят с собой ПТСР, воспоминания и жуткие навыки, приобретённые на войне.
И это всё — тоже “безграничные возможности”.
Как бы я провела урок?
Поэтому, конечно, хорошо поговорить в классе не об инвалидах, а о людях с ограниченными возможностями. Не выдавая их за суперменов, перед которыми открыты все двери. Поговорить об их реальных проблемах: как живётся таким людям в вашем городе, знают ли ребята кого-то из них. Как можно улучшить их жизнь? Что можно для них сделать?
А про “безграничные возможности” — не надо. Давайте про это просто помолчим.
Видео-архив «Разговоров о важном» можно найти на моём youtube-канале. С этого года новые выпуски в текстовом формате выходят на сайте.
Подписывайтесь на мои соцсети:
Бусти — Патреон — Телеграм — Инстаграм — ТикТок — YouTube