Разговоры о важном: Цифровой суверенитет страны
Как государство контролирует цифровую сферу
Просто приятно видеть, насколько актуальны те темы, которые выбирают создатели “Разговоров о важном”. Вот на следующей неделе речь пойдет о цифровом суверенитете России. Ну да, конечно, не будем зависеть ни от айфонов, ни от компьютеров, ни от экстремистских соцсетей, будем сами с усами.
Max в каждый дом
И надо же — проведение “Разговора” о цифровом суверенитете очень удобно совпадает с той атакой на цифровой суверенитет каждого нормального человека, которую проводит в последнее время российское государство. Как раз к началу учебного года подоспело решение об обязательном переходе всех родительских, классных и вообще всяких чатов на новый “национальный” мессенджер Max. Сначала его решили предустанавливать на каждый смартфон и планшет, продающийся в России. Потом поняли, что это — кхм… технически нелегко делать. Решили ставить клеймо на смартфоны: “без Rustore/Max”, очевидно предполагая, что это будет страшным изъяном. Я бы советовала в связи с этим снизить цены на айфоны — тогда все сразу поймут, какой ужас жизнь без российского мессенджера.
В сценарии разговоров есть чудесное объяснение того, почему так важен цифровой суверенитет:
«Учитель: Представьте многоквартирный дом, где есть всё для комфортной жизни: электричество, газ, — но вода поступает в квартиру через соседей, и кран, регулирующий её, установлен именно у них. Сможете ли вы ею полноценно распоряжаться? В этой ситуации мы не можем регулировать горячую и холодную воду, следовательно, не можем самостоятельно решать, какая температура воды нужна лично нам, чтобы принять душ. Для этого нужен кран в каждой квартире. Так и в масштабах целой страны государству важно самостоятельно управлять своими ресурсами, принимать ключевые решения и гарантировать безопасность своих граждан. Цифровой суверенитет — это возможность самостоятельно поддерживать цифровую сферу и защищать её от любых угроз».
В этой извращённой логике интернет, сама суть которого — создание связей, объединяющих весь мир, превращается в собственность жильцов одной квартиры, отделённых каменными стенами от остального «многоквартирного дома». Как будто можно жить, не имея контактов с другими квартирами, и к тому же зная, что в твоей «квартире» каждый твой шаг контролирует злобный управдом.
И конечно, большая часть сценария посвящена мессенджеру Max. Там есть ещё рассуждения об уникальности Госуслуг, есть ролик с выступлением Мизулиной о безопасном интернете. (В очередной раз вспоминаю Бальмонта: ну почему я, такой нежный, должен всё это видеть?)
Но главный упор: Max, Max, Max!
Может показаться, что насильственно навязываемый мессенджер — это не так уж и страшно. Вот эксперты по свободе интернета, организация RKS Global, изучали Max как раз на предмет возможностей слежки за людьми и пришли к более или менее успокаивающему выводу:
«На протяжении двух суток наблюдения ни в одной из конфигураций тестирования не было выявлено неправомерного доступа к камере, местоположению, микрофону, уведомлениям, контактам, фото и видео. Технически у приложения была возможность собирать эти данные и отправлять их, но эксперты не зафиксировали, что такое происходило».
Но, если честно, то для меня этот вывод скорее менее успокаивающий, чем более. Потому что возможность такая у приложения есть, и “все сообщения и файлы, пересланные через него, будут доступны российским властям”.
Max всеми силами уже навязывают бюджетникам, есть области, в которых на Госуслуги можно зайти только через него, звонки по WhatsApp и Telegram практически не работают. В Пензе, например, из репродукторов каждые полчаса передают призывы установить мессенджер.
Люди заводят себе отдельные телефоны, в которых есть только Max и больше ничего.
Однако одним только Max-ом наступление на интернет не ограничивается. Из самых свежих новостей: запрещено размещать рекламу на ресурсах экстремистских организаций — то есть, например, в Instagram. Запрещено рекламировать VPN. Пользоваться пока что можно (надолго ли?), а вот рекламировать уже нет.
Big Brother is watching you
Зато появился такой закон, которого даже в советское время не знали — теперь вводятся штрафы за “умышленный поиск” экстремистского контента. Каким образом будут отделять случайное кликание по ссылке на Facebook от умышленного — я не знаю и, честно говоря, не хочу знать. Думаю, что и сами создатели этого закона не могут ответить на этот вопрос, их задача — просто всех побольше припугнуть.
Ещё одна интересная штука — “экспериментальный режим учёта места нахождения иностранных граждан”. Что-то мне подсказывает, что огромное количество людей или вообще не обратит на это нововведение внимания, или даже порадуется: правильно, надо этих мигрантов к ногтю, что это они — ходят где хотят, теракты устраивают беспрерывно…
Ох, сколько раз это было в истории — сначала радовались, что “их” к ногтю, а потом — “товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка”. Суть экспериментального режима заключается в том, что мигранты, живущие в Москве и Московской области, должны теперь установить приложение “Амина”, которое будет отслеживать их перемещения. Я даже не говорю о том, как сама эта идея омерзительна и унизительна для людей, приехавших в Россию, чтобы выполнять ту работу, от которой отказываются россияне. Да неважно, просто — как эта идея омерзительна и унизительна. Но ведь совершенно ясно, что испробовав её на бесправных мигрантах, которые уже и так загнаны в угол, затравлены полицией и не могут отдавать детей в школы, — а потом, отшлифовав её, решив технические проблемы (сейчас почему-то там сплошные технические проблемы), можно будет и на всех распространить.
И вообще-то, у нас уже есть пример прекрасного, умелого использования новейших цифровых достижений для контроля над людьми — это тот “цифровой ГУЛАГ”, который устроен в Китае для уйгуров, а на самом деле — не только для них.
Ещё в 2018 году “Медуза” опубликовала потрясающий рассказ журналиста, по понятным причинам решившего скрыть своё имя, который проехал по Синьцзяну — району Китая с преобладающим уйгурским населением. Надо сказать, что этот рассказ и тогда производил сильное впечатление, а сегодня — особенно сильное, потому что так и видишь, как в России всё это воспроизводят.
Всё произошло не в один день. Сначала людей отсекли от западных мессенджеров. Вот что пишет журналист:
“Один за другим переставали отвечать телефоны; китайские уйгуры удаляли живущих за границей друзей из списков контактов в WeChat, самом популярном китайском мессенджере. WhatsApp и Facebook были заблокированы и раньше, но теперь за их установку грозила тюрьма”.
Затем жителей Синьцзяна тоже заставили насильно устанавливать на свои телефоны приложения, которые могут их контролировать. Объяснили это, конечно же, необходимостью борьбы с террористами. Приложение JingWang Weishi теперь обязаны установить даже туристы, въезжающие в Синьцзян. “JingWang передаёт в полицию идентификатор устройства, его модель и номер его владельца, а впоследствии мониторит всю поступающую информацию, указывая пользователю на наличие опасного с точки зрения государства контента. Я читал о приложении раньше, но считал это слухами. Через пять часов на границе я уже знал, что с недавних пор его установка стала для синьцзянских уйгуров обязательной”.
Ещё Китай — мировой лидер по количеству установленных в стране видеокамер. В 2018 году их было 20 миллионов. Теперь называют самые разные цифры — от 6 до 700 миллионов. Проверить их вряд ли кому-то в ближайшее время удастся, но то, что они там на каждом шагу, — об этом есть много свидетельств.
Впрочем, почему только в Китае? В России в 2023 году система распознавания лиц использовалась уже в 60 регионах.
И, конечно же, огромное количество опрошенных считает, что таким образом повышается их безопасность. А вот у “Роскомсвободы” мнение другое:
“«Роскомсвобода» считает распознавание лиц технологией двойного назначения, которая может использоваться с нарушением прав граждан и являться вмешательством в их личную жизнь. Далеко не единичны те случаи, когда такие системы применяли для преследования оппозиционных деятелей, участников митингов, а в прошлом году они были использованы в ходе проведения «частичной мобилизации».
Также уже известны случаи утечек биометрических данных россиян из таких систем”.
А Китай между тем тоже не стоит на месте:
“Успешно внедрив систему слежения в Синьцзяне, Китай приступил к экспорту прорывной технологии. Два года назад отделение CEIEC — госкомпании, которая обеспечивает инфраструктуру слежки, — открылось в Эквадоре. Китай, крупнейший импортёр эквадорской нефти, выделил этой стране многомиллионный кредит на проект, в рамках которого камеры установили в двух десятках эквадорских провинций. В январе 2018-го агентство «Синьхуа» сообщало, что благодаря этому преступность в стране упала на 11,8%; в рамках нового соглашения CEIEC внедрит в Эквадоре геолокационную систему, позволяющую отслеживать мобильные телефоны граждан. Отделения CEIEC появляются на Кубе, в Бразилии, Боливии и Перу, компания разработала систему интернет-цензуры для правительства Уганды и пытается расширяться в Африке”.
Ну а дальше — наверное, никто не удивится, прочитав, что “В разделе «Европа» на сайте CEIEC значится пока только одно представительство. Находится оно в Москве”.
Суверенитет vs автаркия
Меня иногда спрашивают, можно ли применить понятие тоталитаризма, например, к Древнему Египту или Риму? На мой взгляд, безусловно нет — по многим причинам, на которые сейчас отвлекаться не буду. Но одна из них заключается в том, что тотальный контроль возможен только с использованием современных технических средств. Это понимали уже Оруэлл и Замятин, подробно описав в своих антиутопиях технические средства контроля. «Телекраны» в «1984» с одной стороны обрушивают на людей свои двухминутки ненависти, а с другой — следят за каждым их шагом даже в кажущемся уединении из квартир.
И то, что власти в России сегодня гордо называют цифровым суверенитетом, на самом-то деле — цифровая автаркия, попытка и в этой сфере отгородиться от мира, чтобы было как можно легче контролировать людей и промывать им мозги.
И конечно, в идеале сегодня в классах надо говорить не о цифровом суверенитете, а о его принципиальной невозможности. Как написал один журналист “Медиазоны”: «На каждый мессенджер Max есть VPN».
Как провести урок?
Надо говорить и о тех уникальных возможностях, которые предоставляет нам Всемирная паутина. О Zoom и о Google, о банковских системах и новостях — обо всём том, чего власть хочет лишить людей в России.
Но я понимаю, что подобный урок в нынешних обстоятельствах чреват большими опасностями для учителя. Ну, наверное, можно выбрать две самых нейтральных темы из предложенных в сценарии: достижения российской цифровизации — а они действительно велики — и опасность столкновения с мошенниками в интернете. Спросите ребят, какую пользу они лично получают от цифровых сервисов, разработанных в России. Яндексом, наверное, они пользуются? Спросите, сталкивался ли кто-то из их близких с интернет-мошенниками, и обсудите, как от этого можно защититься.
Только ради бога — без разговоров о воде в многоквартирном доме и без ролика Мизулиной — так позориться нельзя.
Видео-архив «Разговоров о важном» можно найти на моём youtube-канале. С этого года новые выпуски в текстовом формате выходят на сайте.
Подписывайтесь на мои соцсети:
Бусти — Патреон — Телеграм — Инстаграм — ТикТок — YouTube
🏎️ Установите быстрый и безопасный VPN для доступа к YouTube по ссылке ↗

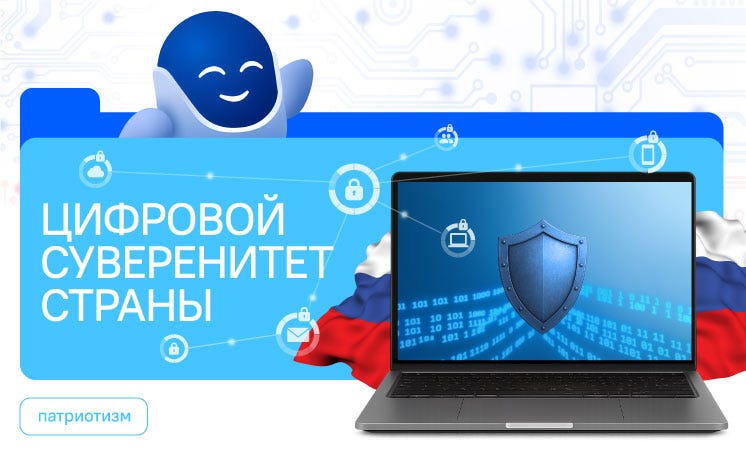





Всё правильно.